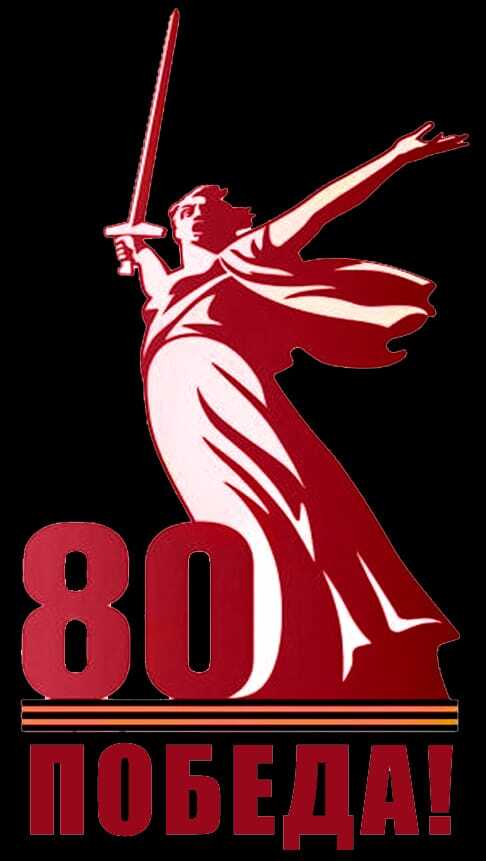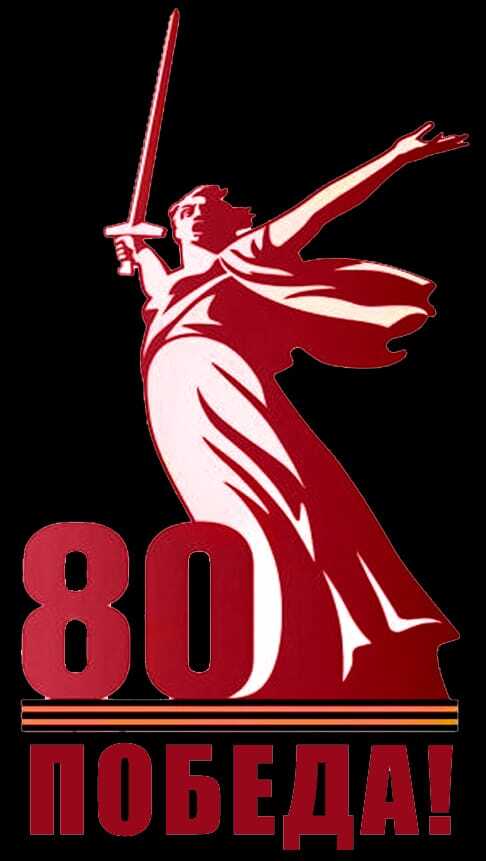Подвиг под землей
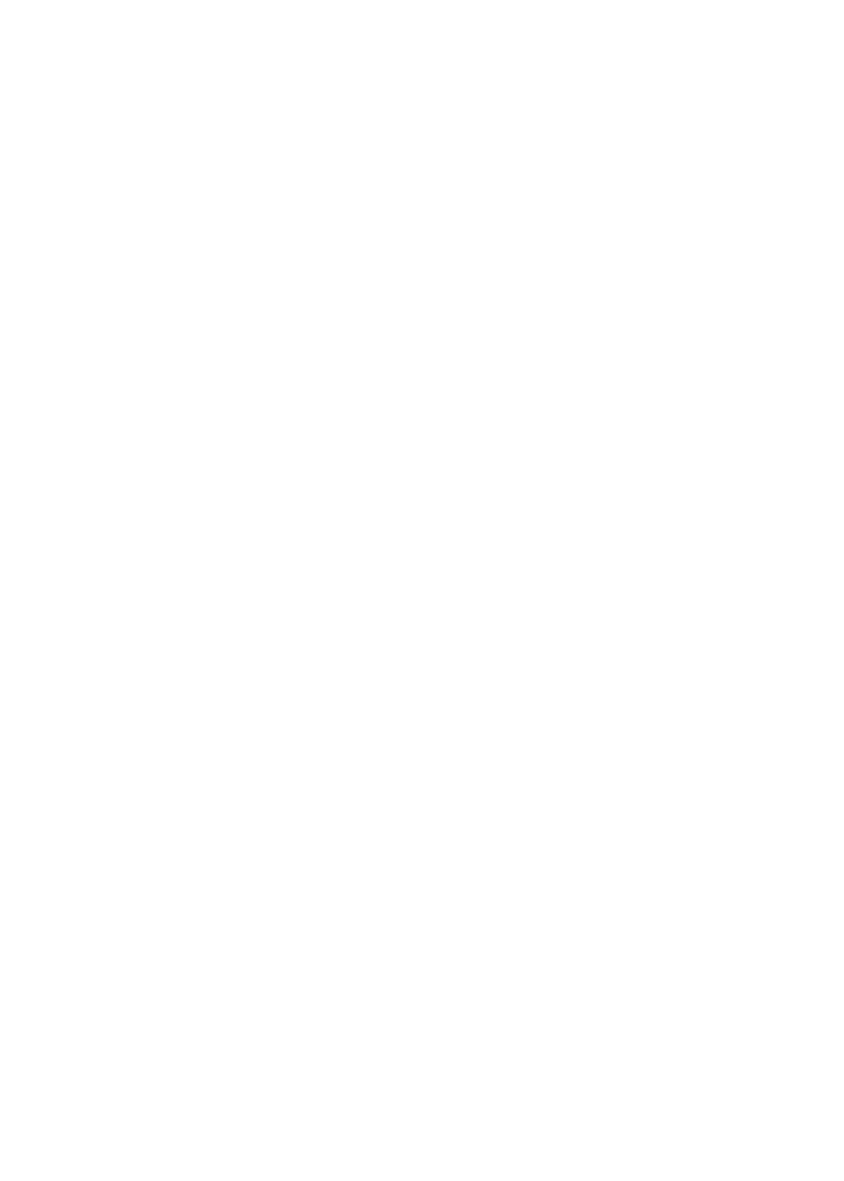
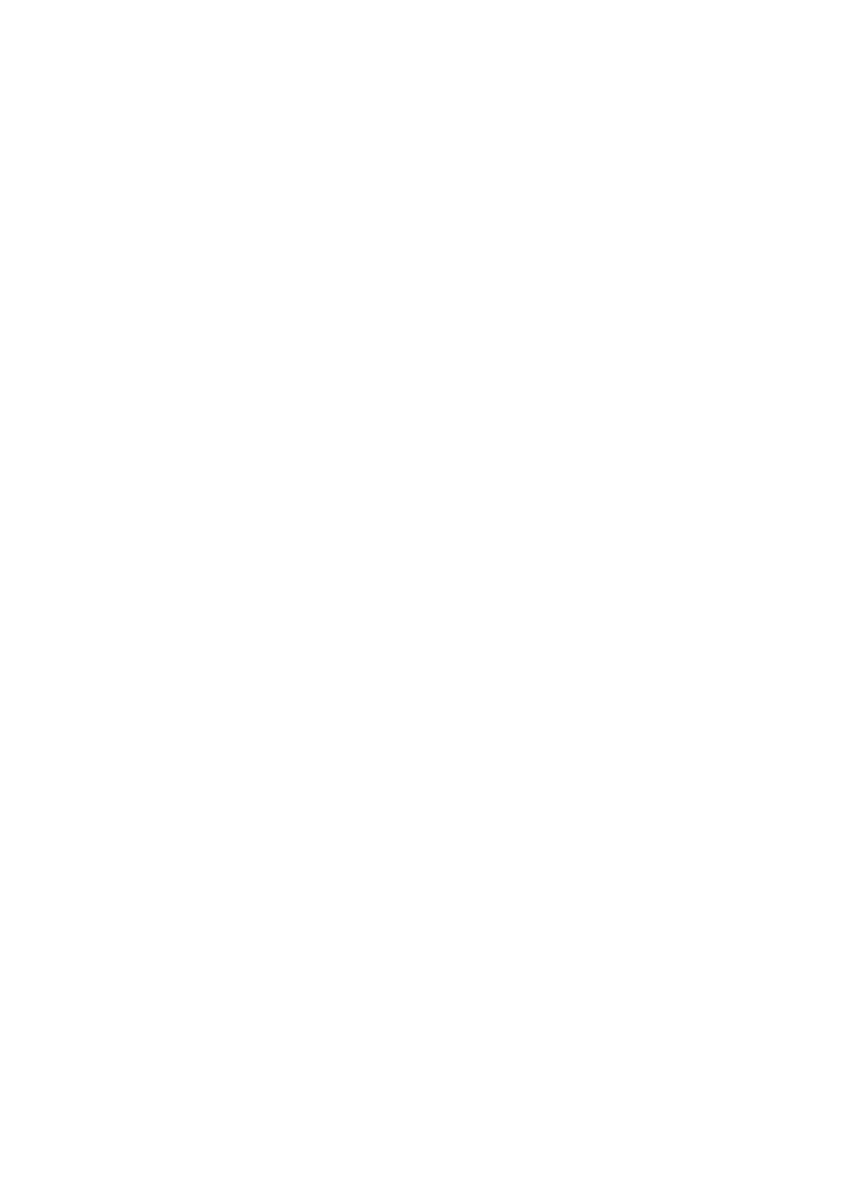
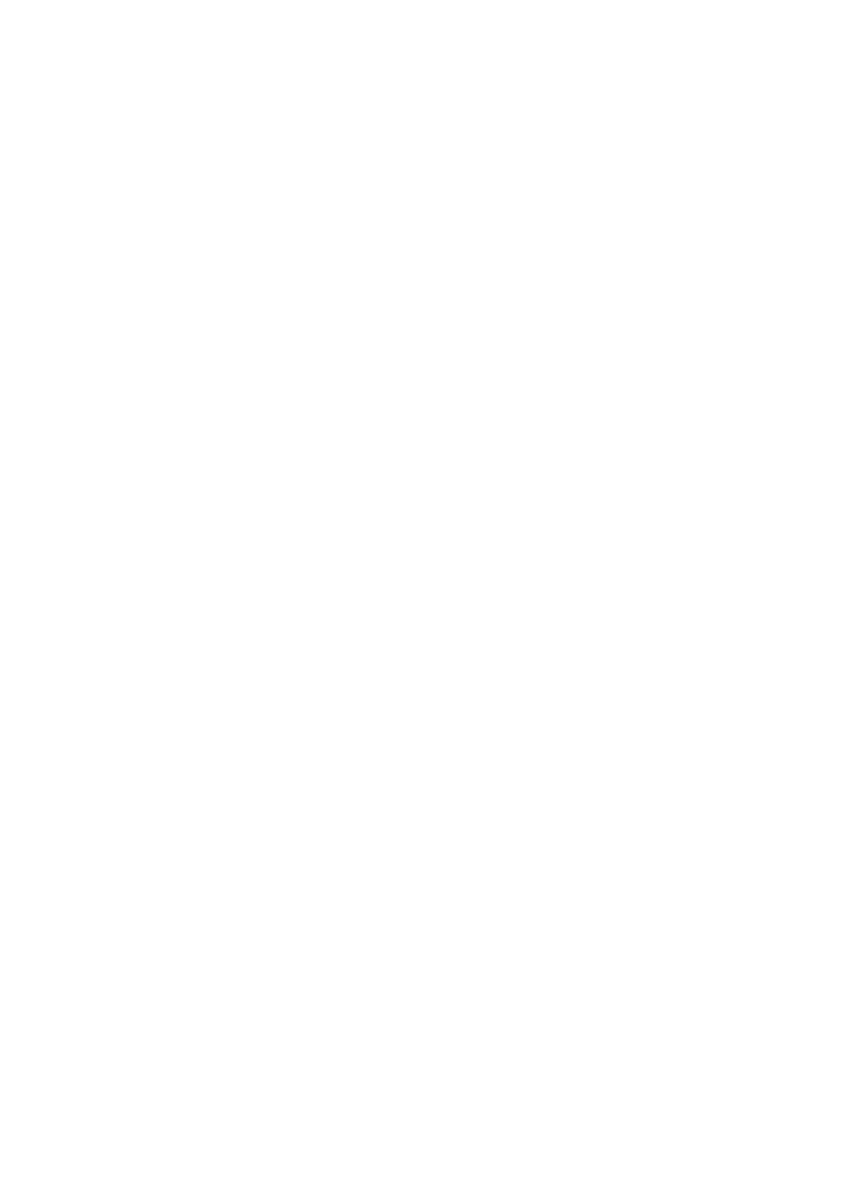
Основу группы Ягунова, кроме командиров, политработников резерва и личного состава 1-го фронтового запасного полка, составили несколько сотен курсантов военных училищ (Ярославского авиационного училища, Воронежского училища радиоспециалистов), бойцы и командиры 276-го стрелкового полка НКВД и 95-го пограничного полка, 83-й бригады морской пехоты, а также военнослужащие различных родов войск из частей и соединений фронта. Очень скоро небольшая группа разрослась до несколько тысяч человек за счёт отступающих солдат и жителей, бежавших из города.–стариков и женщин. Мирные жители привели с собой и детей. Больших и маленьких. Очень много грудных.
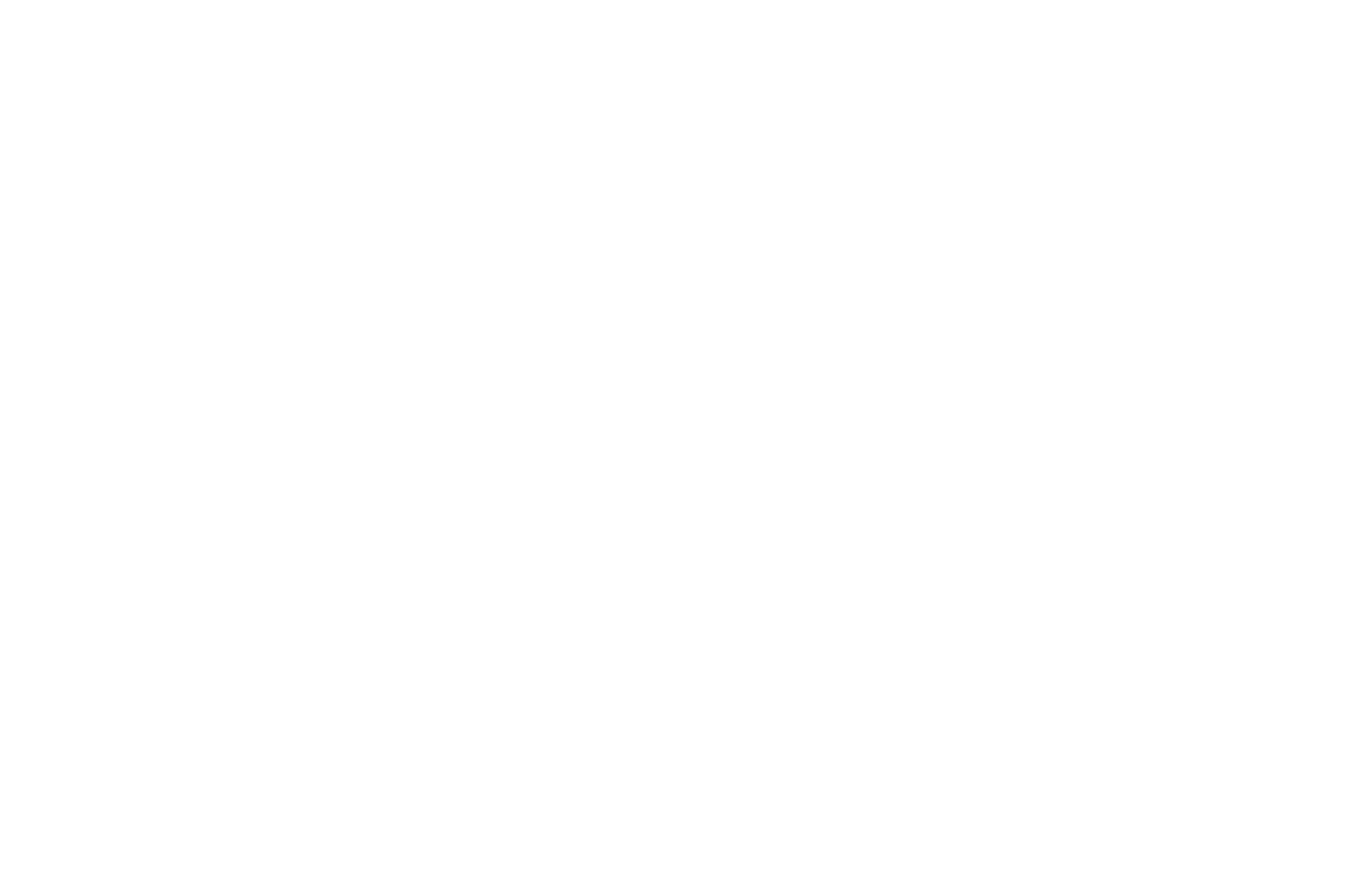
В эти дни Аджимушкайские каменоломни превратились в большой и густонаселенный подземный город. Весь этот лабиринт темных тоннелей и коридоров буквально кишел людьми. Сколько было здесь народу – пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч? Этого никто не знает, и показания очевидцев расходятся здесь в очень широких пределах. По разным подсчётам в каменоломни спустились от 10 до 15 000 бойцов (некоторые минимизируют до 5000 или наоборот, увеличивают до 30000) и командиров Красной армии и несколько тысяч гражданского населения.
Гитлеровское командование приказало пленить всех, кто укрылся в подземелье, а в случае сопротивления – безжалостно уничтожить. Против осажденных бросили два отборных полка пехоты 46-й дивизии, танки и минометы, 88-й саперный батальон и специальную команду войск СС.
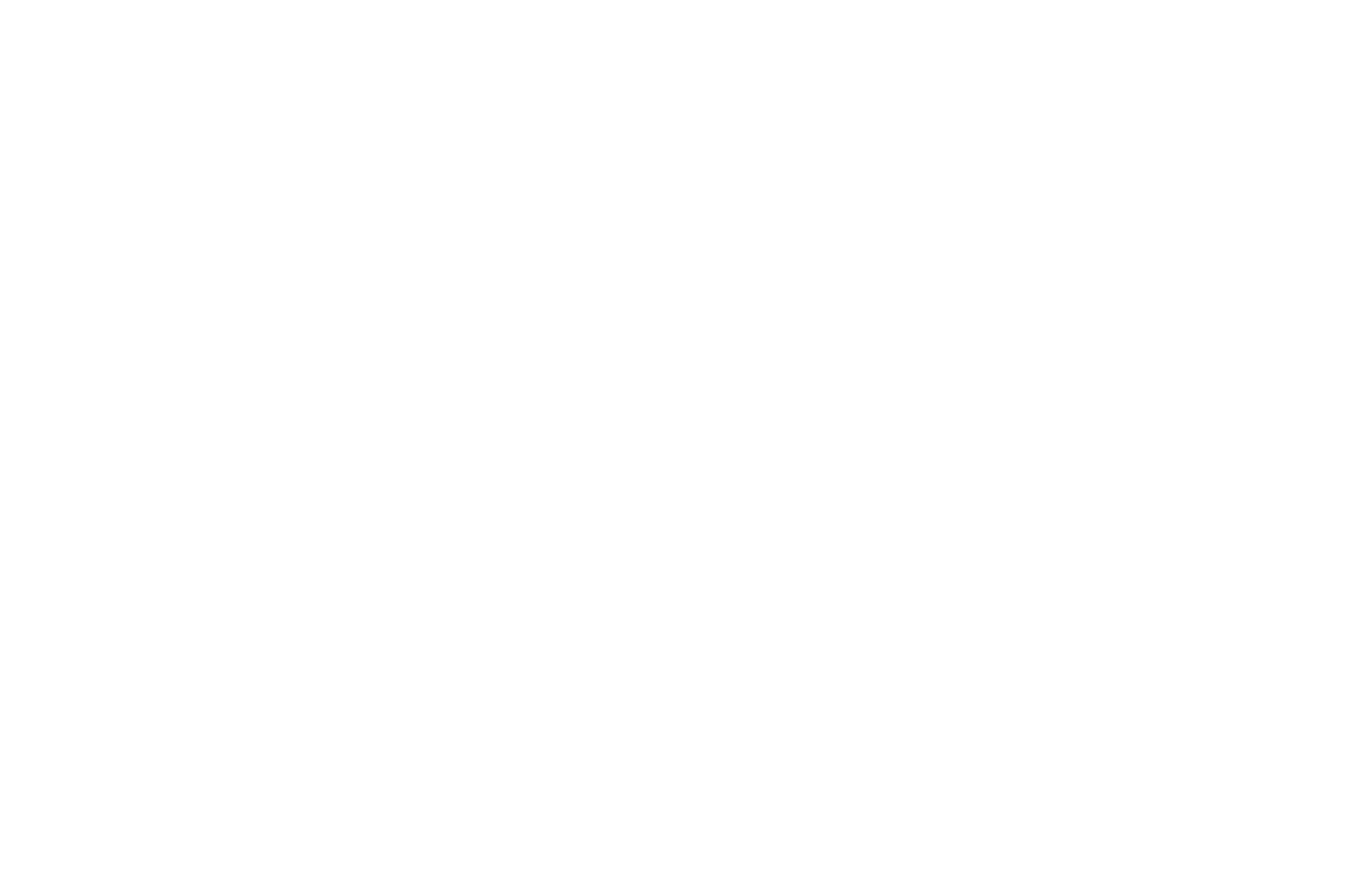
Но первое время ни танки, ни автоматчики фашистов не могли даже близко подойти к входам в каменоломни – всюду их встречал дружный огонь отрядов прикрытия. Лишь 16 мая врагу удалось блокировать район каменоломен. В аджимушкайских каменоломнях более тысячи выходов. Благодаря им красноармейцам сначала удавалось неожиданно атаковать фашистов, которые не могли понять, откуда берутся и куда исчезают части РККА. Но это продлилось недолго. Немцы обнаружили укрытие, подтянули к каменоломням дополнительные силы Вермахта и загнали людей глубоко под землю. Красноармейцы были вынуждены перейти к защите вместо нападения. Так началась героическая оборона Аджимушкайской твердыни. Именно 16 мая 1942 года началась одна из самых известных и длительных «подземных» войн в истории человечества.
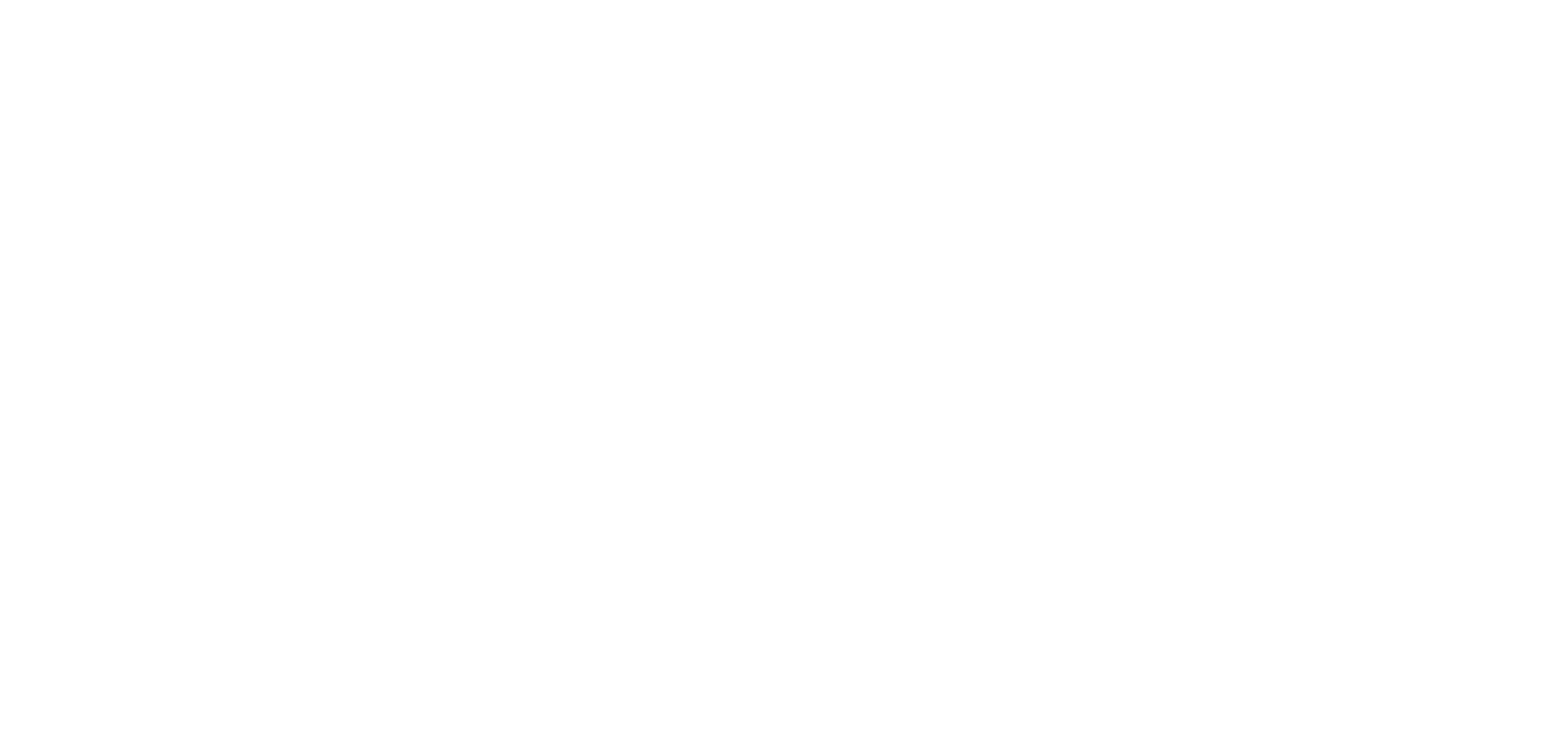
Для выработки плана дальнейших действий был собран военный совет. Исчерпав все возможности борьбы на поверхности, среди старших командиров утвердилось мнение о необходимости продолжить борьбу, создав сильный очаг сопротивления под землёй. Результатом решения, принятого на военном совете, стал приказ № 1, объявленный утром 21 мая 1942 г. в Больших каменоломнях, о создании полка обороны Аджимушкайских каменоломен имени И.В. Сталина. Видимо, к этому моменту командиры отряда уже знали или догадывались, что переправа войск Крымского фронта завершена, и попытки прорыва к побережью пролива уже потеряли всякий смысл.
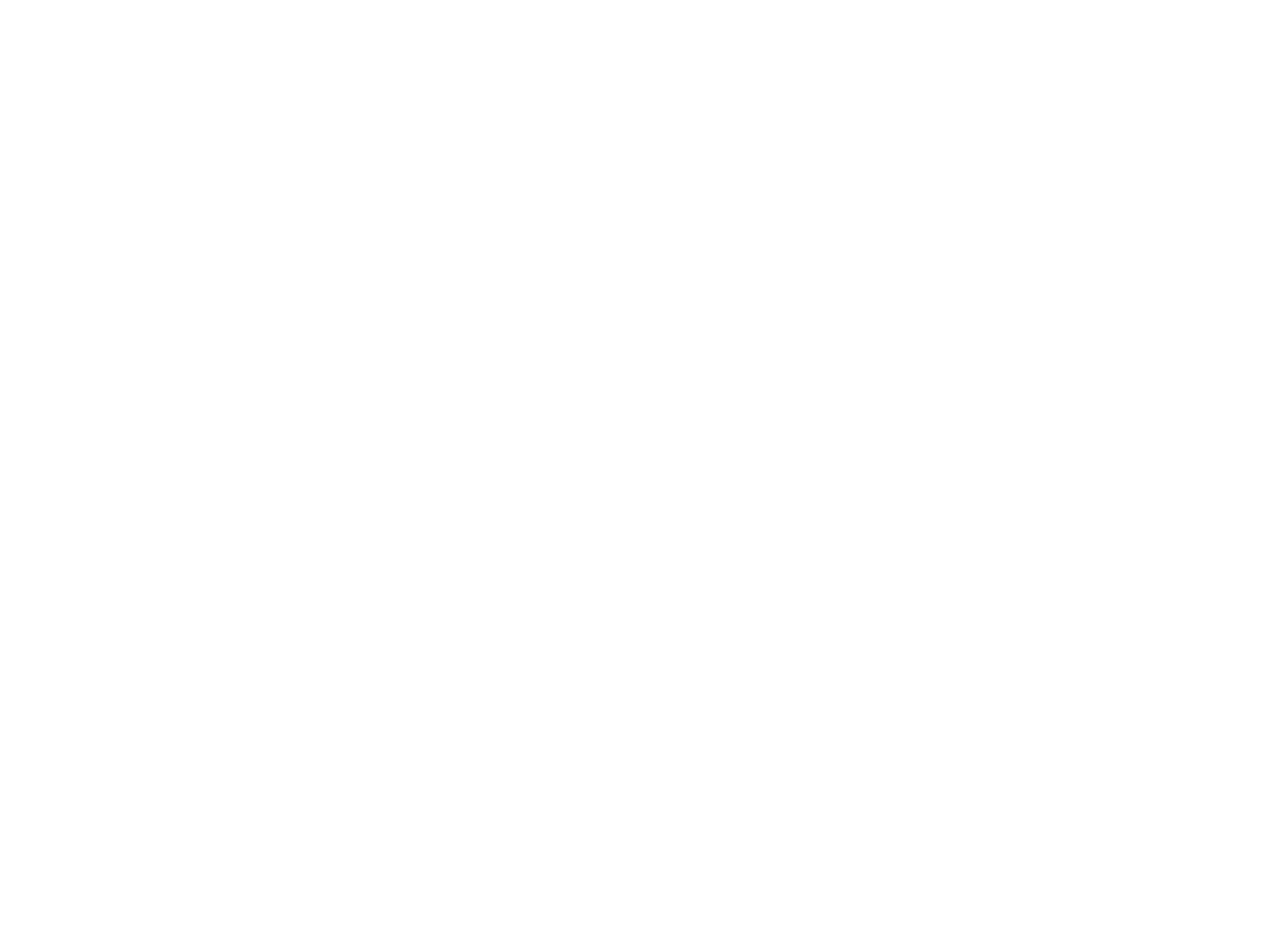
Создать единое боеспособное соединение из множества разрозненных военнослужащих Крымфронта– такая задача стояла в те дни перед командованием. Перед бойцами были поставлены следующие задачи: держаться до прихода Красной Армии; наносить врагу максимальный урон при минимальных потерях; активно бить его с тыла; как можно эффективнее помогать фронту. Командирам необходимо было не только вселять в подчиненных надежду в возвращение Красной Армии и нашу Победу, но и внушить твердую веру в благоприятный исход сражения в тылу немецко-фашистских захватчиков.
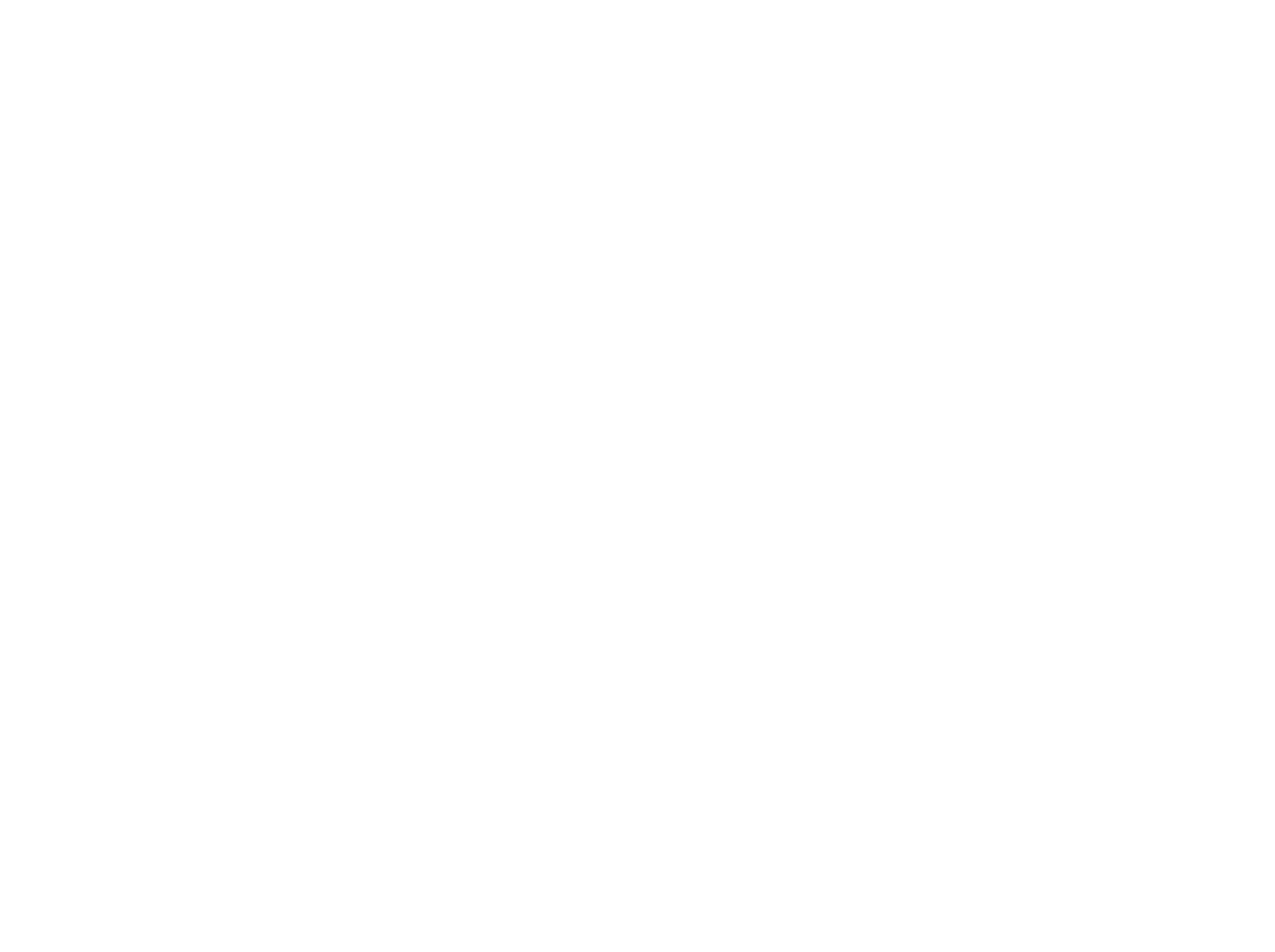
Сразу же после объявления приказа началось формирование подразделений и служб, в связи с чем произведен учет бойцов и командиров, находившихся под землей. Всем были выданы личные знаки – пропуска, служившие для предъявления при передвижении внутри каменоломен. Создан штаб полка, служба связи, тыла, группа разведки, химический отдел, особый отдел, военная прокуратура, военный трибунал. Полк делился на три батальона, каждый из которых базировался на отведенном ему участке подземной крепости.
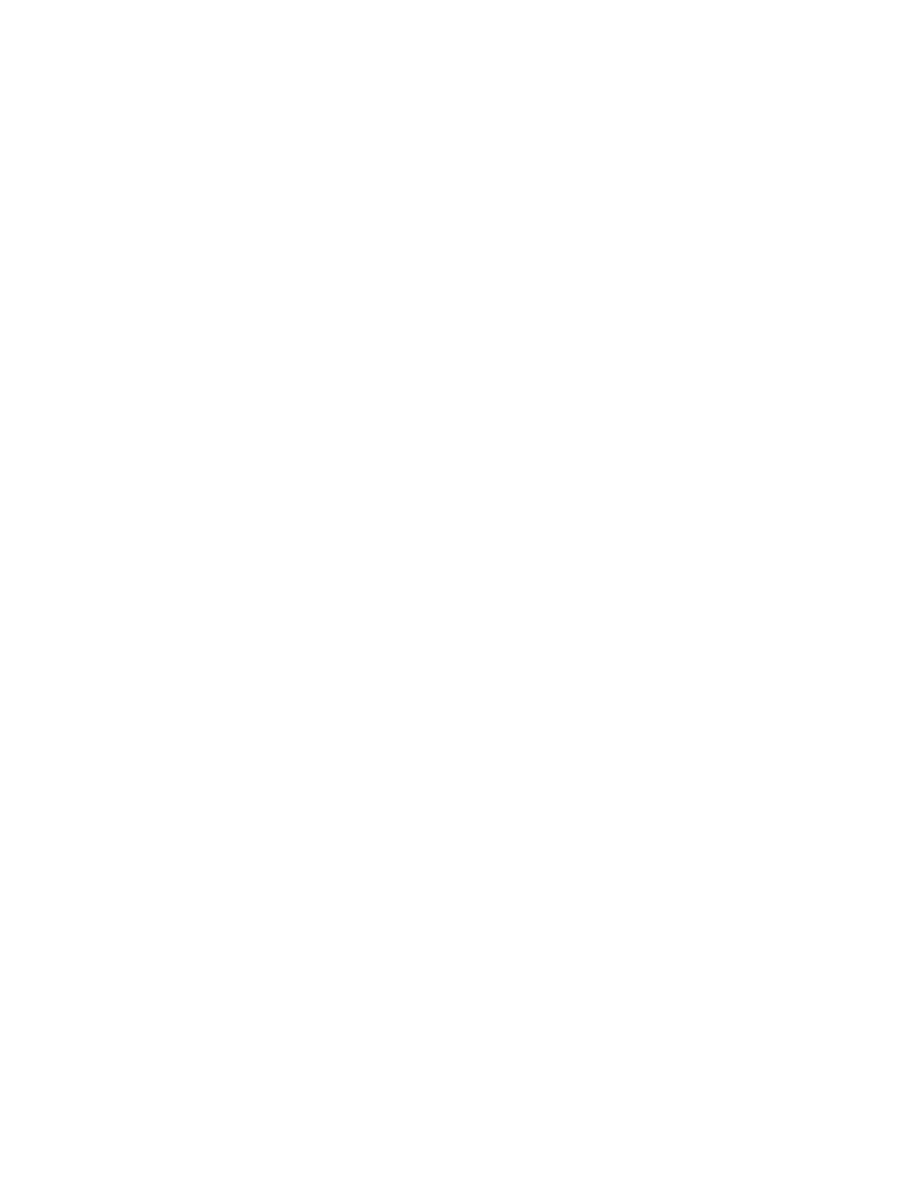
Замысел организаторов обороны Аджимушкайских каменоломен был четко продуман. Вся система подземных галерей разбивалась на три участка, которые делились на сектора. В каждом секторе оборудовали амбразуры, выходящие на поверхность, около которых установили постоянные вооруженные посты. Фактически был создан целый подземный укрепрайон.
По сути, Аджимушкайские каменоломни – это два комплекса пещер, которые не сообщаются между собой. В войну их стали называть Большие и Малые каменоломни – по числу скрывавшихся в них людей.
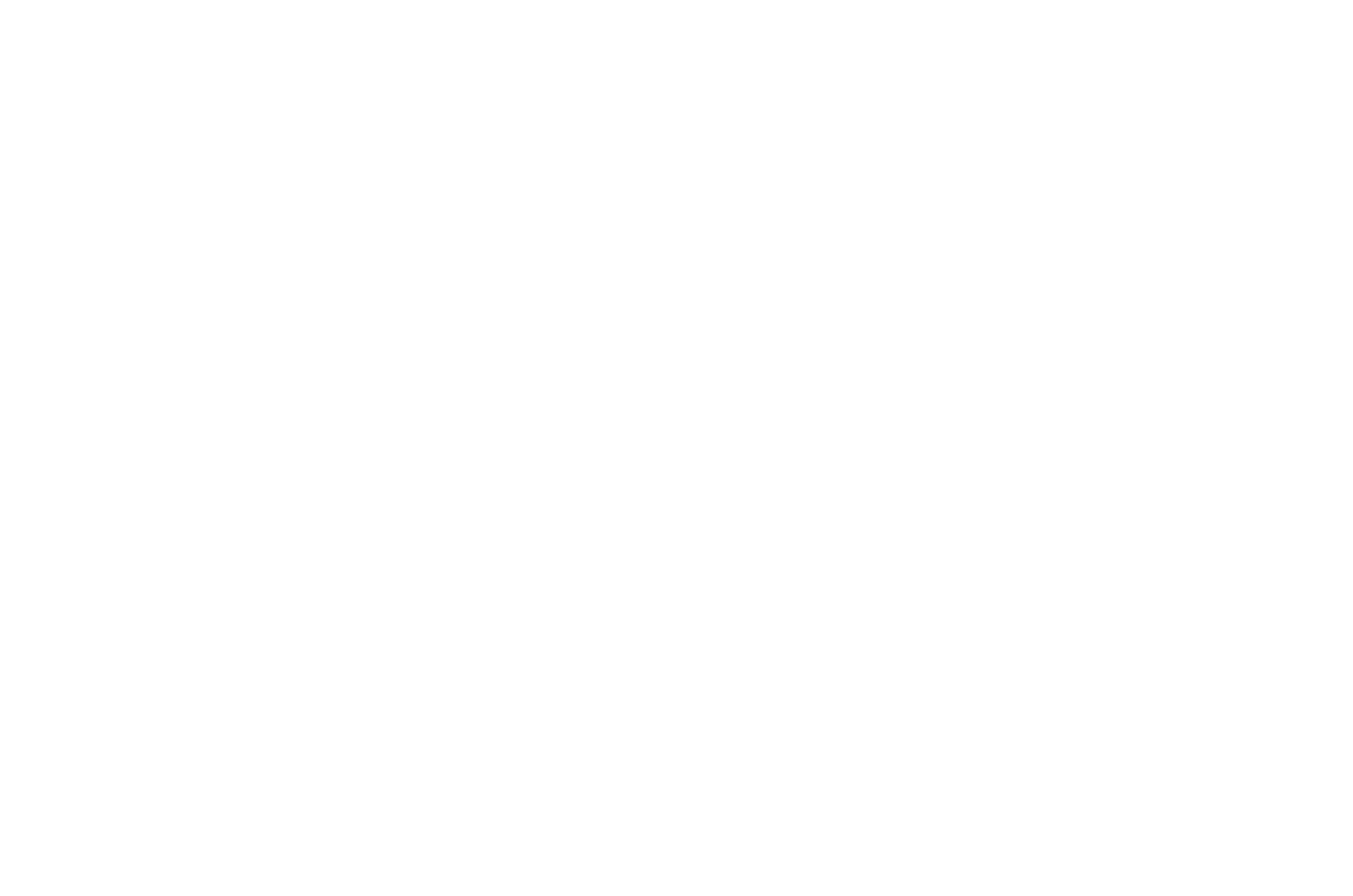
В Больших каменоломнях был сформирован гарнизон численностью около 10 000 бойцов и командиров (командир – полковник П.М. Ягунов, комиссар – старший батальонный комиссар И.П. Парахин, начальник штаба – старший лейтенант П.Е. Сидоров).
В Малых Аджимушкайских каменоломнях также был сформирован подземный гарнизон, численностью около 3 000 бойцов (командир – лейтенант М.Г. Поважный, батальонный комиссар М.Н. Карпехин). Объединиться гарнизонам не удалось, хотя их разделяло всего 300 метров. С размерами же каменоломен все с точностью наоборот: Малые — двухъярусные, с длиной штолен до 15 километров, уходящих под землю на глубину до 30 метров; Большие – одноярусные, длиной до 9 километров и глубиной до 17 метров.
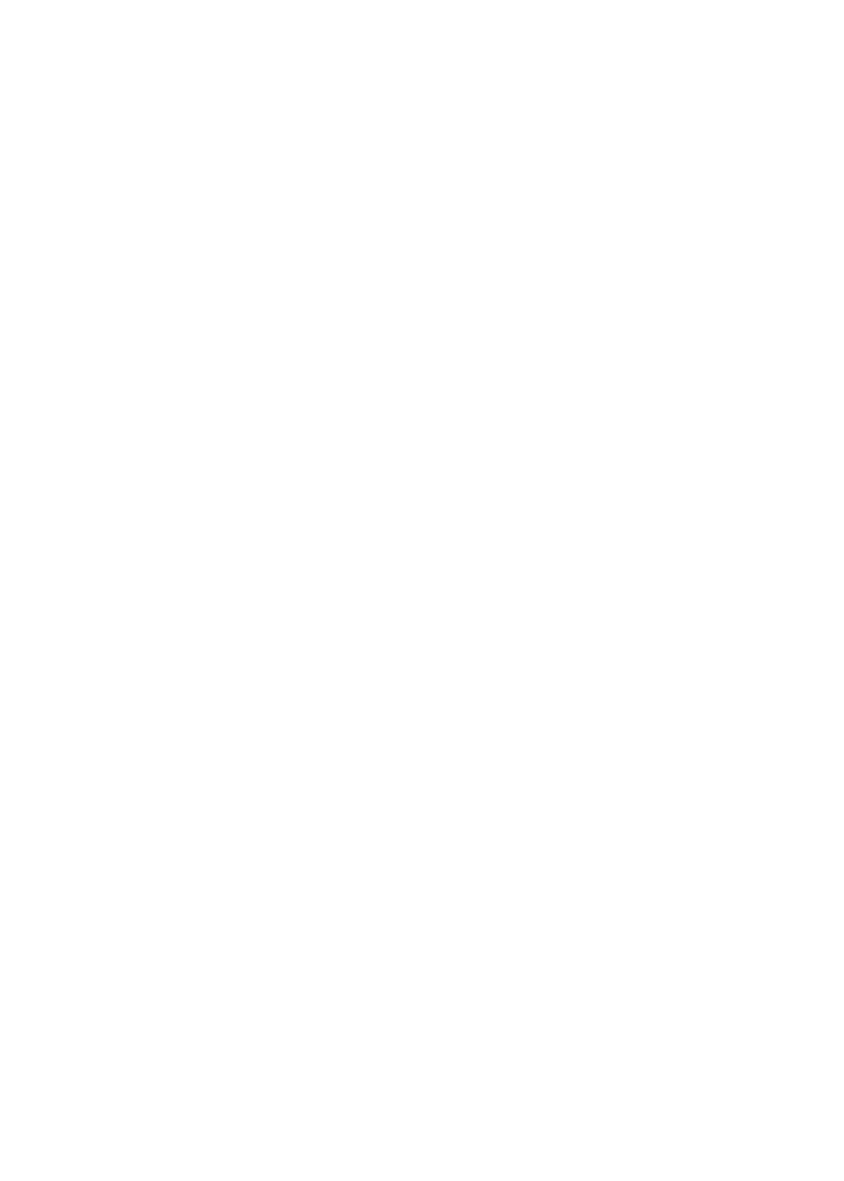
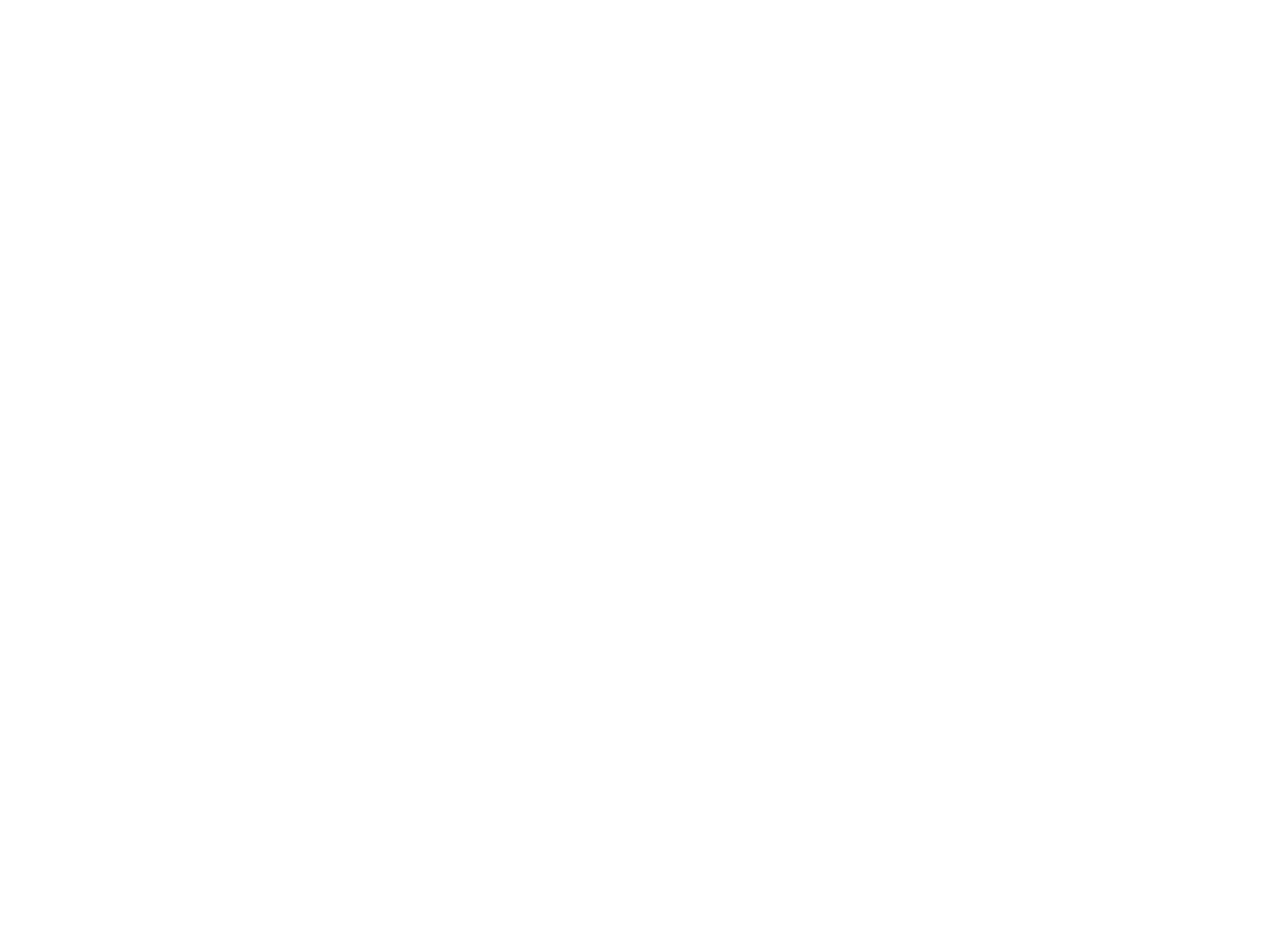
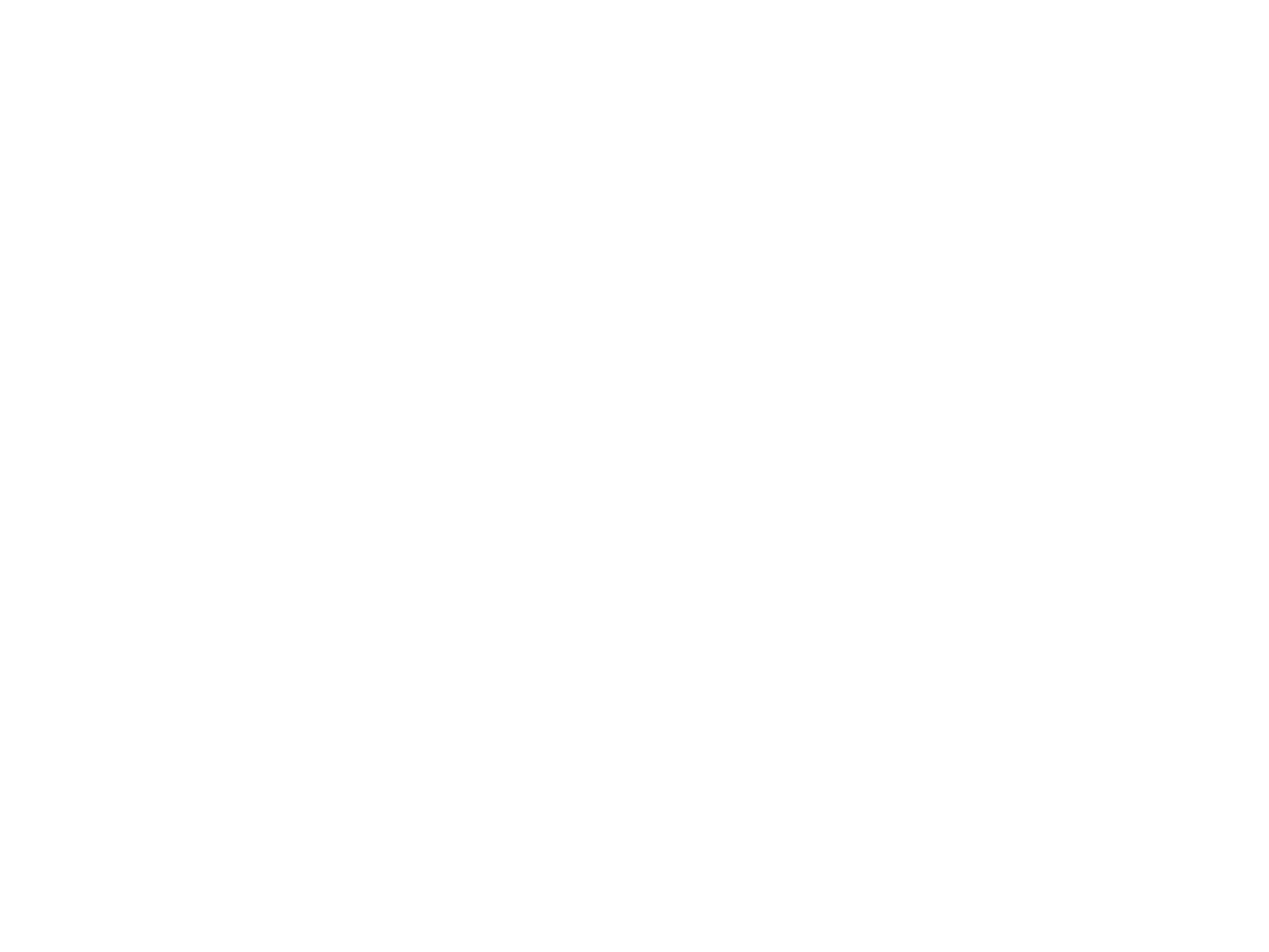
Вся жизнь подземного гарнизона велась строго по уставу РККА, и это значительно повысило его обороноспособность. Чёткая организация и жёсткая дисциплина с первых дней превратили подземные гарнизоны в грозную силу: практически ежедневно аджимушкайцы совершали вылазки, нанося ощутимый урон врагу. Жили, как полагается боевому гарнизону. Каждый день назначались офицер дежурный по полку, дневальные по ротам, дежурная рота. Выставлялись секреты, на выходах из каменоломен – караулы.
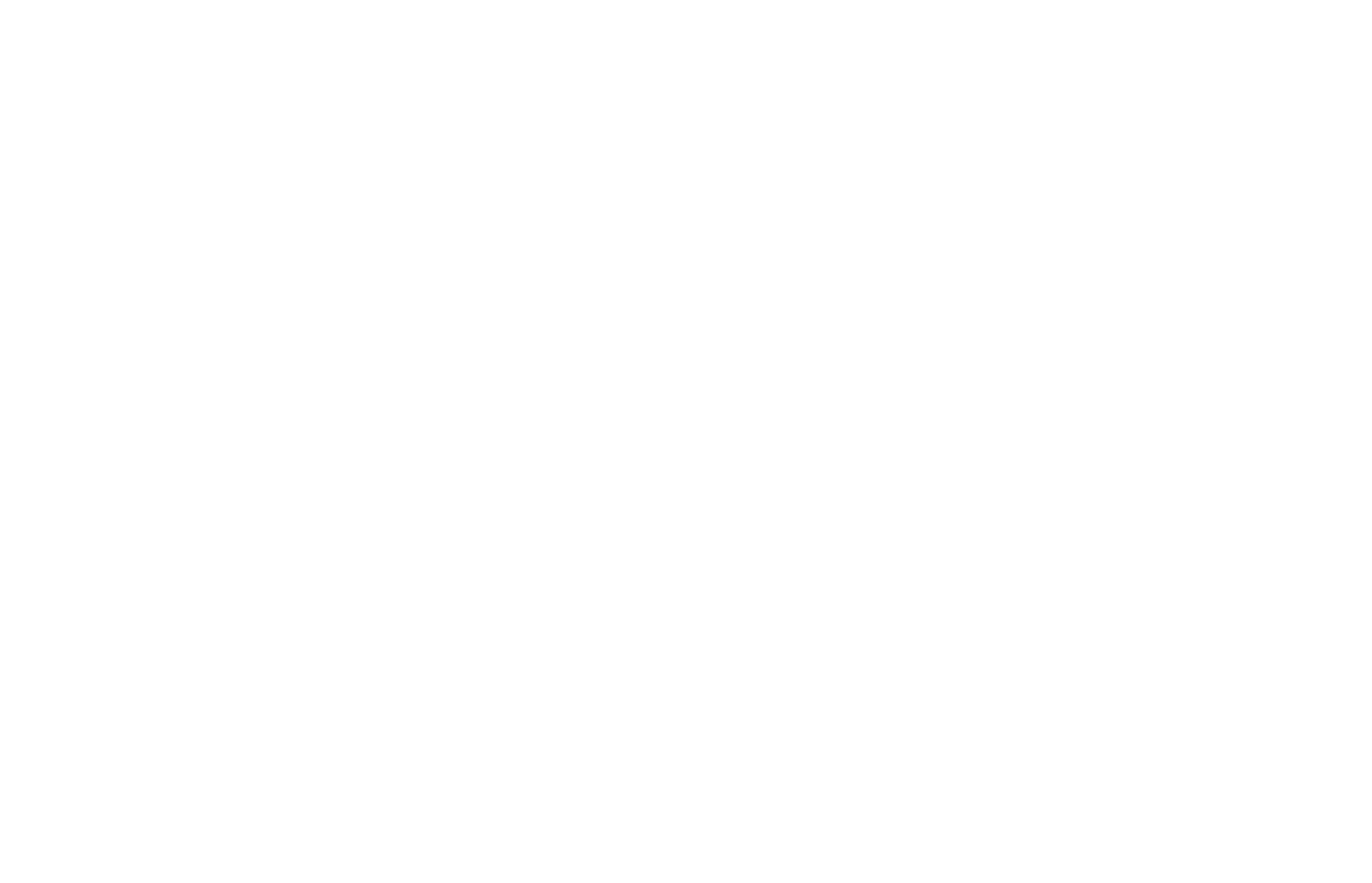
Осада каменоломен продолжалась с конца мая по конец октября сорок второго. Пять месяцев держались гордые защитники Аджимушкая.
Военный историк В.В. Абрамов делит боевые действия гарнизона Центральных каменоломен на три основных периода:
Первый период: с момента окружения группы Ягунова (18 мая) до первой немецкой газовой атаки (24 мая);
Начальный период обороны характеризовался ожесточенными боями на поверхности, попытками прорвать кольцо окружения, а также стремлением других групп, сражавшихся в окружении, соединиться с гарнизонами каменоломен.
Второй период: с 25 мая до начала августа 1942 года – это период активной обороны гарнизона;
Третий период: сопротивление гарнизона до последних чисел октября – пассивная оборона отряда.
Военный историк В.В. Абрамов делит боевые действия гарнизона Центральных каменоломен на три основных периода:
Первый период: с момента окружения группы Ягунова (18 мая) до первой немецкой газовой атаки (24 мая);
Начальный период обороны характеризовался ожесточенными боями на поверхности, попытками прорвать кольцо окружения, а также стремлением других групп, сражавшихся в окружении, соединиться с гарнизонами каменоломен.
Второй период: с 25 мая до начала августа 1942 года – это период активной обороны гарнизона;
Третий период: сопротивление гарнизона до последних чисел октября – пассивная оборона отряда.
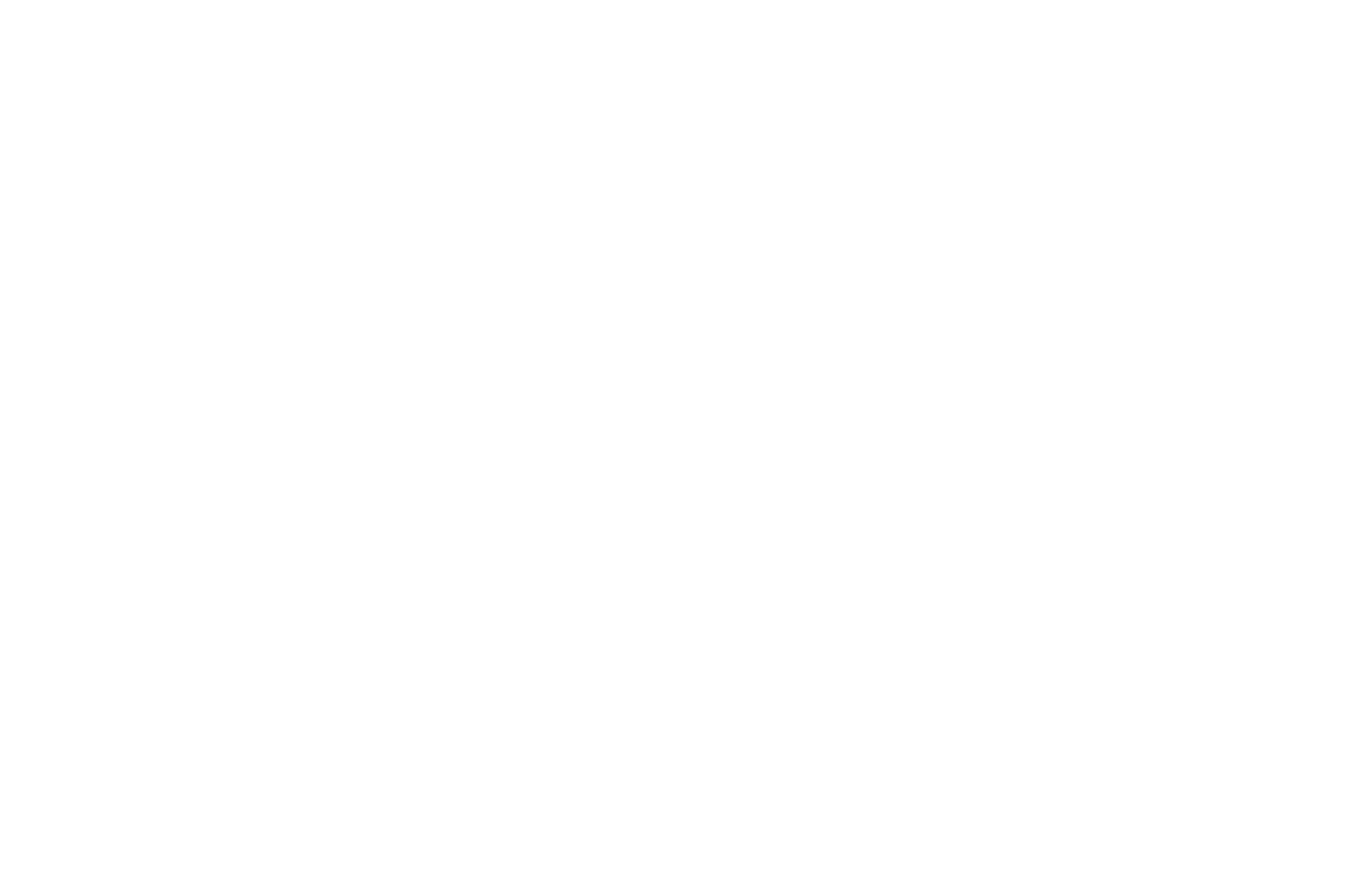
Катакомбы не были подготовлены для выдерживания долговременной осады: не было больших запасов пищи и воды, медикаментов, оружия и боеприпасов, а колодцы находились только снаружи.
И, несмотря на это, люди продолжали жить и сопротивляться. Жили в казармах в каменных комнатах каменоломен, кроватей не было – спали люди на возвышавшихся над полом широких каменных уступах. Многие гражданские принесли с собой из домов теплую одежду, одеяла и матрасы, которые издавна в тех краях набивались морскими водорослями. Чудесный материал с уникальными свойствами - не отсыревает даже при высокой влажности, всегда сухой. Там и сейчас лежат такие водоросли – тёмные-бурые скрученные узкие ленточки, похожие на крупно нарезанный табак. Разрешено их потрогать – они прохладные и сухие на ощупь. Эти матрасы разрывали и распределяли набивку всем поровну.
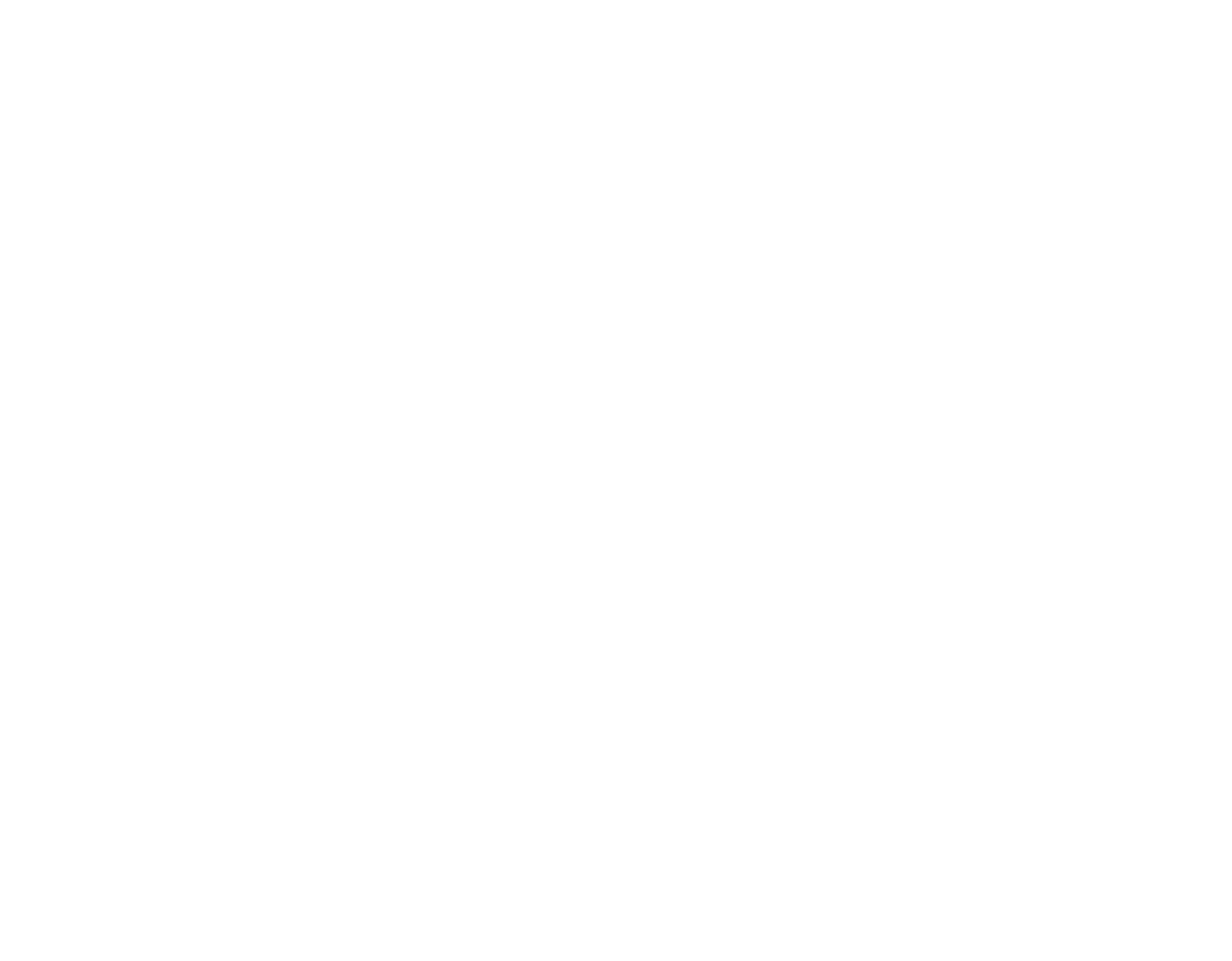
В июне наблюдатели на Таманском берегу почти каждый день фиксировали яростные перестрелки и взрывы в районе каменоломен, где продолжали оказывать сопротивление мелкие группы красноармейцев. Постоянно проводились вылазки, велась разведка, делались попытки установить связь с Большой землей и керченским подпольем.
Немцы предоставили осаждённым на удивление широкий выбор: оборонявшиеся могли быть раздавлены обвалами, вызванными детонацией заложенных на поверхности зарядов, могли задохнуться от газовых шашек, могли погибнуть без медикаментов, пропитания, воды. Люди, особенно старики, сходили с ума и сами выходили на солнце, щурясь с непривычки и падали наземь под очередью немецкого пулемётчика. Люди умирали от малейших царапин из-за массового сахарного диабета. Люди гибли от туберкулеза, высасывая из расщелин с водой мельчайшие камушки и песчинки. Дети умирали, прося матерей дать им воды, которой не было.
Немцы предоставили осаждённым на удивление широкий выбор: оборонявшиеся могли быть раздавлены обвалами, вызванными детонацией заложенных на поверхности зарядов, могли задохнуться от газовых шашек, могли погибнуть без медикаментов, пропитания, воды. Люди, особенно старики, сходили с ума и сами выходили на солнце, щурясь с непривычки и падали наземь под очередью немецкого пулемётчика. Люди умирали от малейших царапин из-за массового сахарного диабета. Люди гибли от туберкулеза, высасывая из расщелин с водой мельчайшие камушки и песчинки. Дети умирали, прося матерей дать им воды, которой не было.
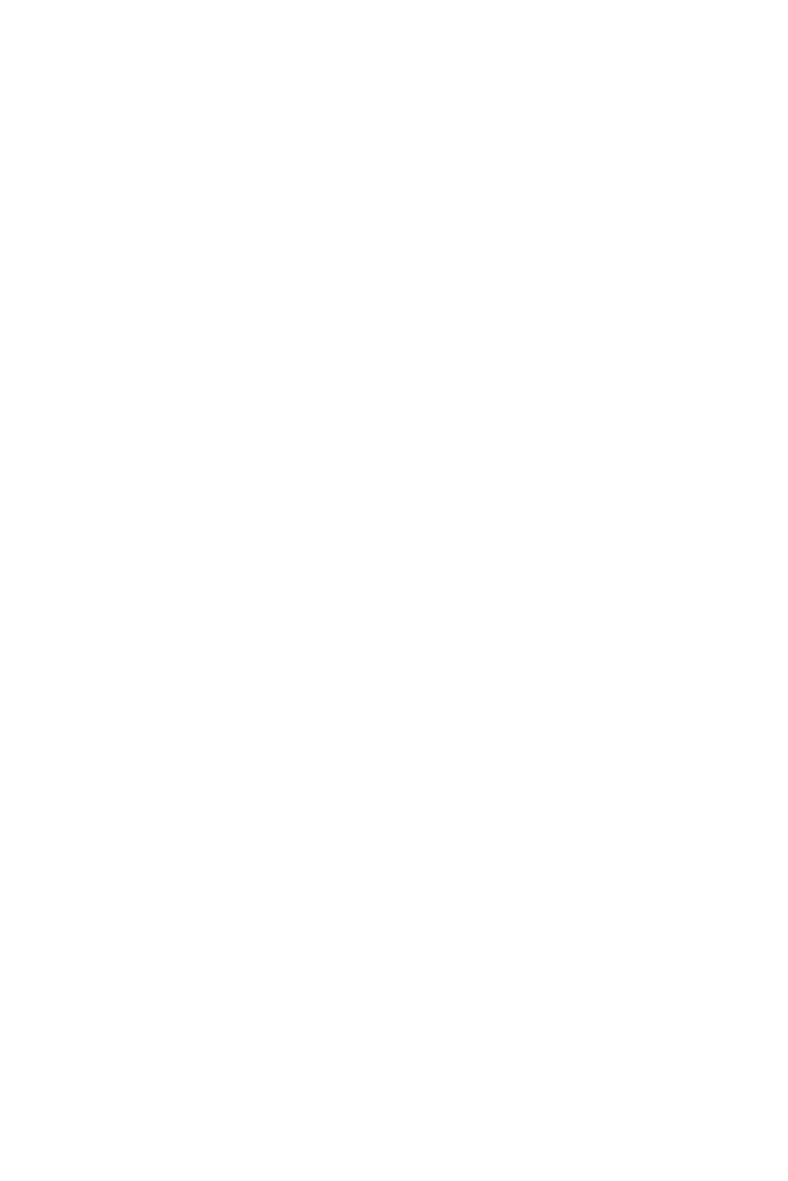
Гарнизон Аджимушкая под командованием Павла Ягунова, таким образом, оказался подобен больной занозе в теле: он не позволял немцам перебросить военные части из-под Керчи на помощь регулярной армии, осаждающей Севастополь. А держать столь большой воинский контингент для контроля непобежденных было слишком расточительно в те решающие военные дни.
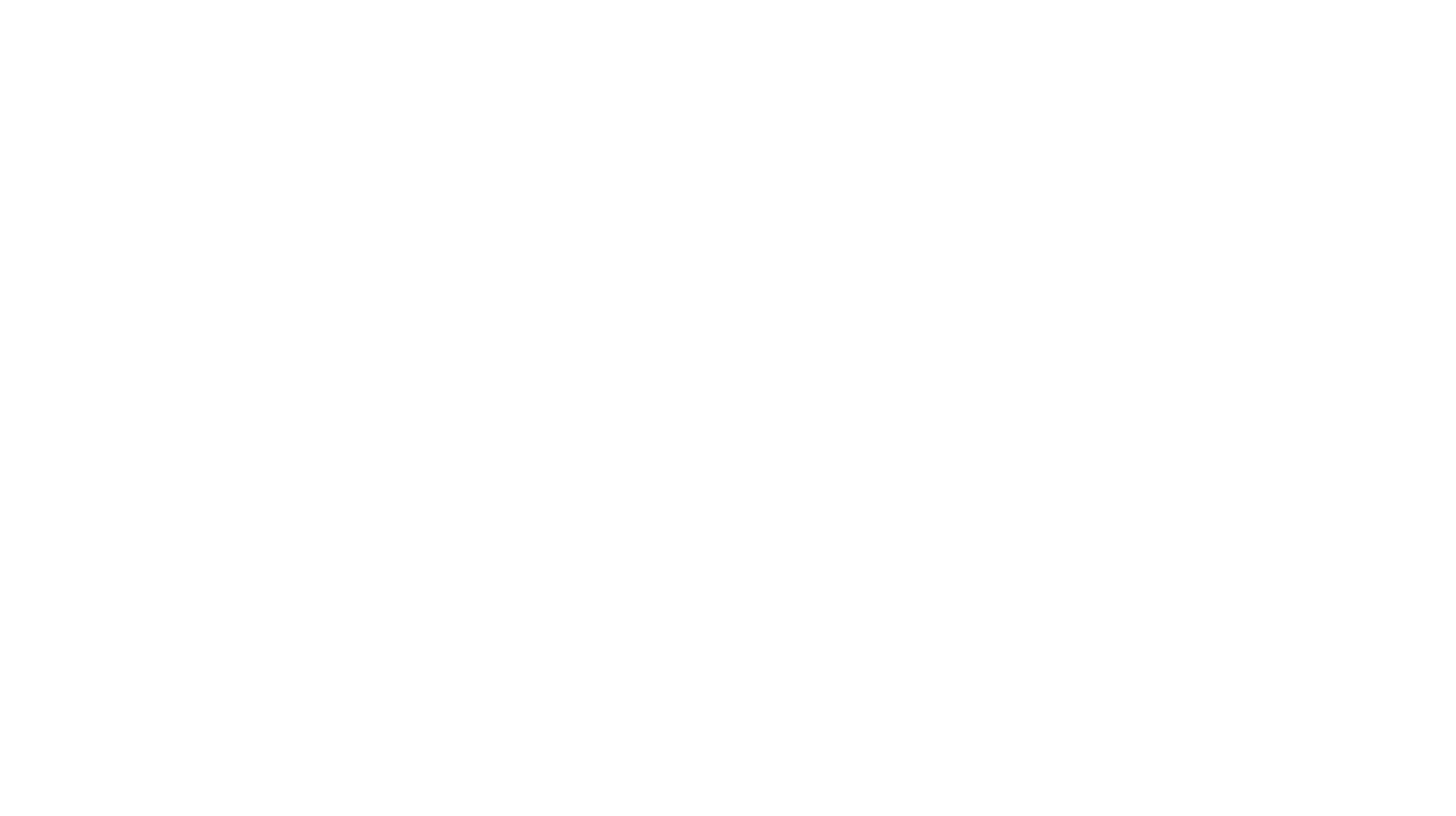
Возможно, город русской Славы Севастополь не выдержал бы столь долго, если бы не гарнизон Аджимушкая. Поэтому германское командование прикладывало все силы и использовало все возможности, чтобы уничтожить непокорный гарнизон.
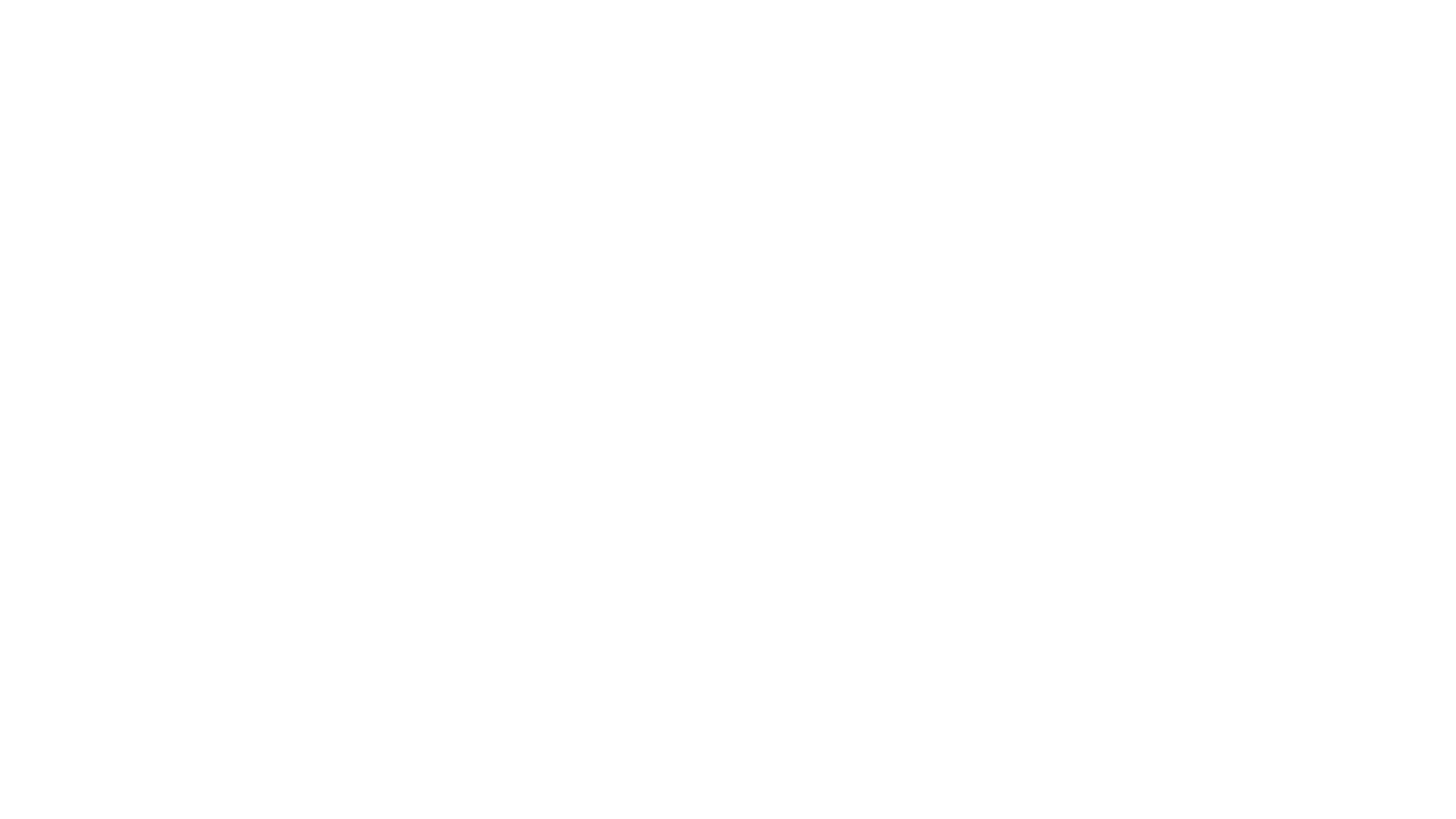
Пока держался осажденный Севастополь главная база Черноморского флота, измученные бойцы подземного гарнизона верили, что они не одни на Крымской земле и есть надежда на высадку десанта. 3 июля Севастополь пал – это стало страшным ударом для аджимушкайцев. Ясно стало, что помощи ждать неоткуда. По вечерам из поселка доносились звуки маршей: гитлеровцы праздновали победу. А днем вместе с гранатами в проходы бросали листовки, предлагавшие сдаваться в плен. Аджимушкайцы ответили им по-своему. Ягунов назначил вылазку.
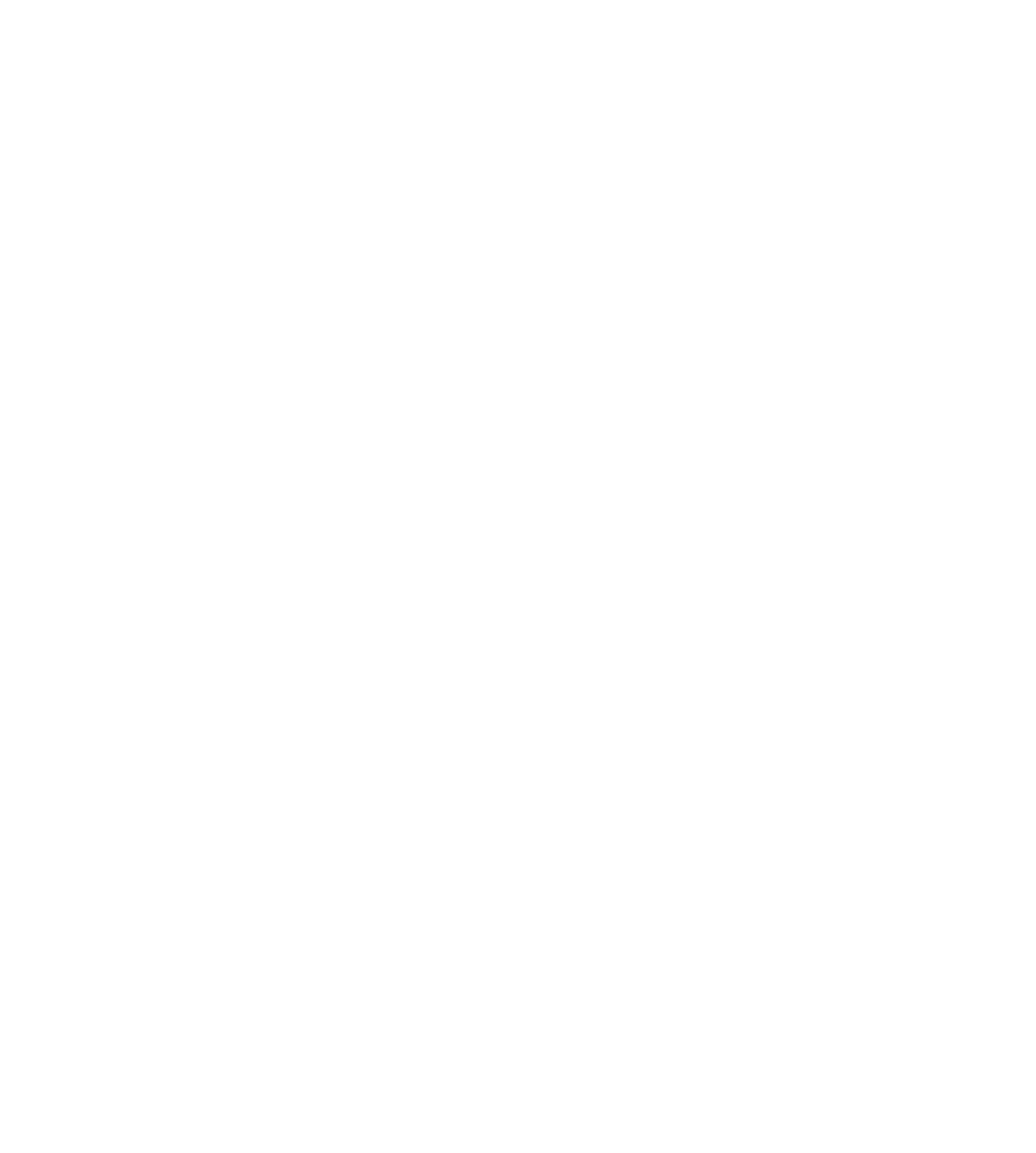
Вночь с 8 на 9 июля на поверхность вышел весь боеспособный состав, и практически сутки поселок находился в наших руках. Это была ночь мести за Севастополь. Но сил и боеприпасов держать Аджимушкай у бойцов просто не было.
После этой вылазки, утром при осмотре трофеев в руках у командира гарнизона полковника П.М. Ягунова взорвалась граната и он погиб. Ягунова похоронили вечером, когда из каменоломен вышел газ, который гитлеровцы продолжали пускать, с воинскими почестями в виде исключения в деревянном гробу, сделанном из бортов полуторки. Несмотря на то, что выжившие после войны аджимушкайцы точно указывали отсек, где захоронен их командир, могилу Ягунова не могли найти 45 лет. Раскопали ее совершенно случайно в 1987 году.
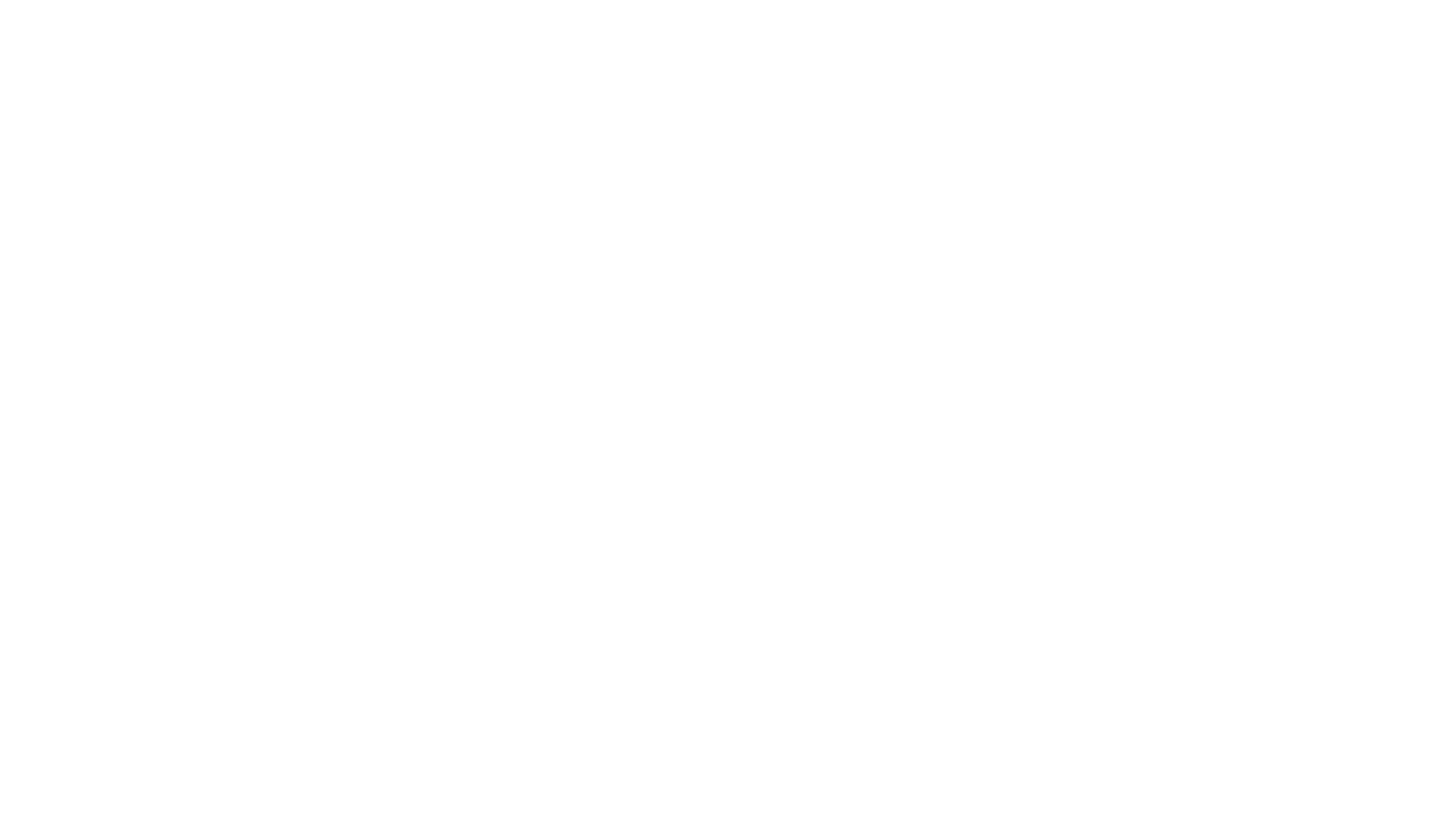
Командование обороной каменоломен после гибели Ягунова принял кадровый военный, танкист, участник боев на Халхин-Голе Григорий Михайлович Бурмин, который до этого возглавлял 2-й батальон, прорвавшийся в конце мая из подвалов завода им. Войкова. Под командой Бурмина гарнизон держал оборону еще 4 месяца.
До сентября в гарнизоне практически ежедневно проводились занятия по тактике и боевой подготовке, политзанятия, читались лекции, проводились политинформации о положении на фронтах, раздавались по подразделениям сводки Совинформбюро, принимаемые по радио и распечатанные в штабе на машинке. В первые дни обороны выпускались «Боевые листки». Гарнизон держался.
Поначалу была двусторонняя связь с поверхностью – недаром среди осажденных были военные из Воронежской школы радиоспециалистов. В результате ряда устроенных немцами взрывов и обвалов, большая часть оборудования погибла. Удалось собрать что-то из уцелевших деталей и установить одностороннюю связь – осажденные могли слышать поверхность, но не могли отвечать на запросы. Они остались сами по себе и никто не знал живы ли еще аджимушкайцы и сколько их.
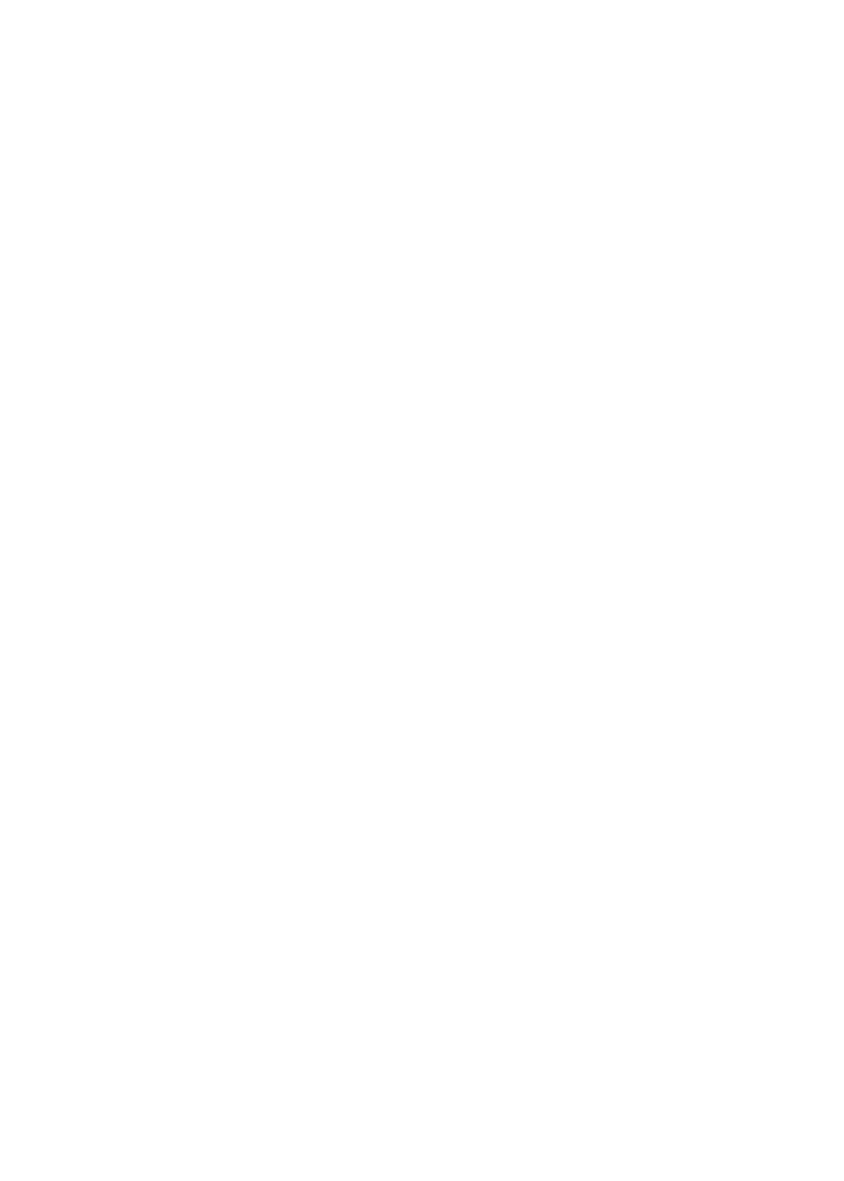
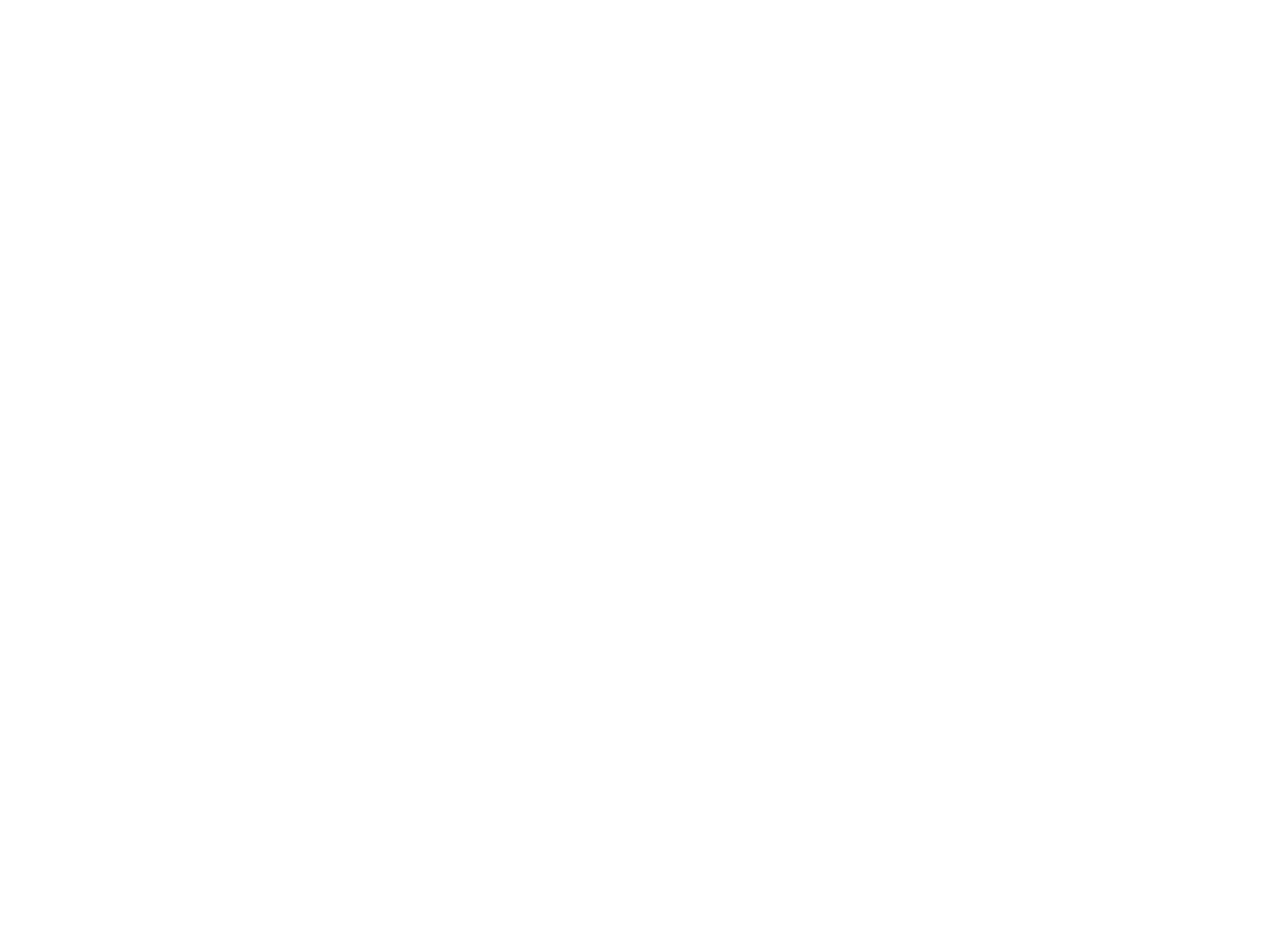
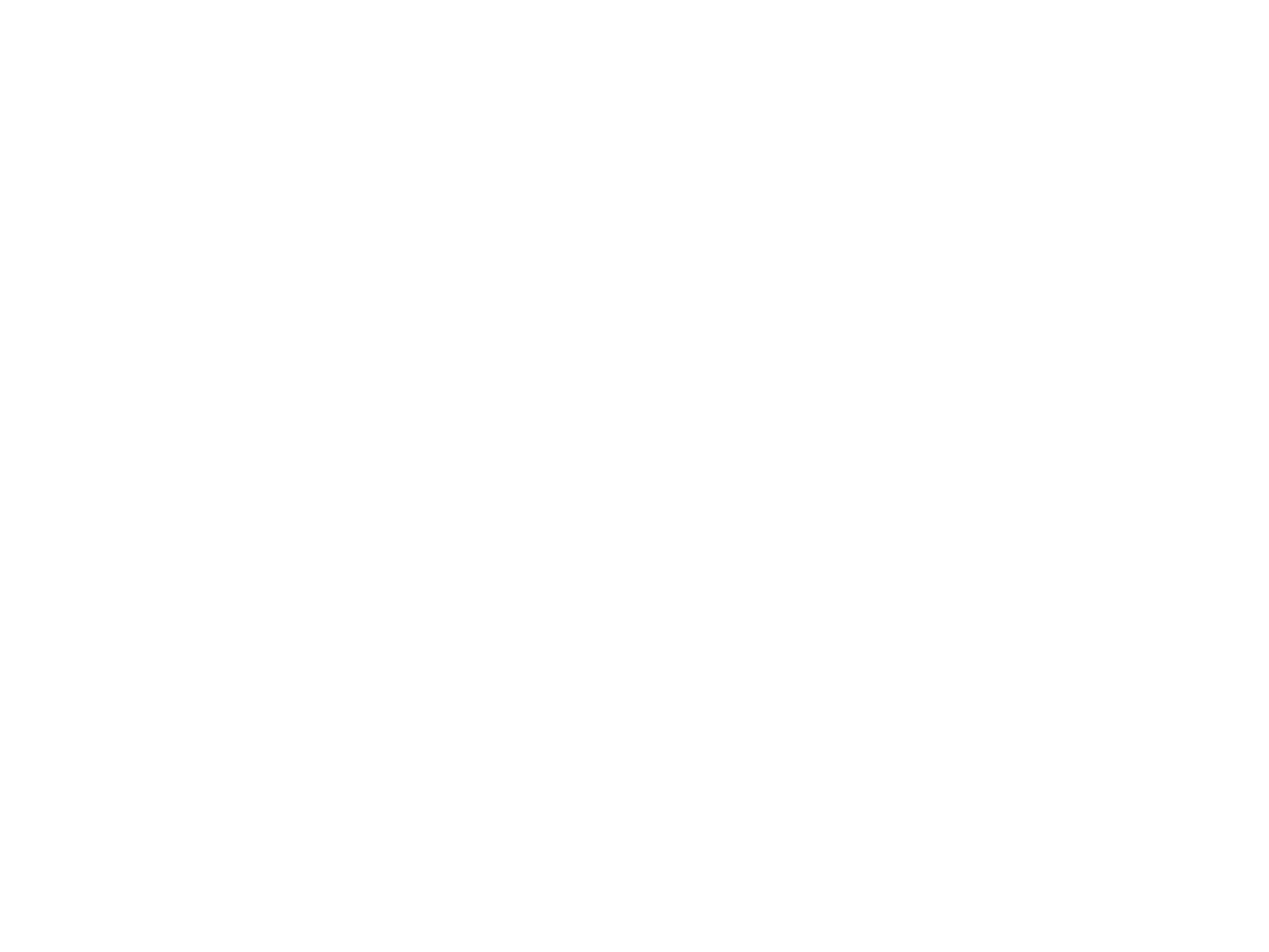
В поддержании высокого боевого духа определенная роль отводилась и наглядной агитации – в некоторых местах на стенах выработок вывешивали лозунги, написанные на бумаге или краской по стенам. Когда в 1943 году ворвались в каменоломни наши десантники, на черных от гари стенах они прочитали эти слова – последние слова погибших героев:
- Смерть, но не плен! Да здравствует Красная Армия! Выстоим, товарищи! Лучше смерть, чем плен.
- 22-VI-42. Ровно 1 год войны... Немецкие фашисты напали на нашу Родину. Проклятье фашистам! Прощайте!
- Смерть, но не плен! Да здравствует Красная Армия! Выстоим, товарищи! Лучше смерть, чем плен.
- 22-VI-42. Ровно 1 год войны... Немецкие фашисты напали на нашу Родину. Проклятье фашистам! Прощайте!
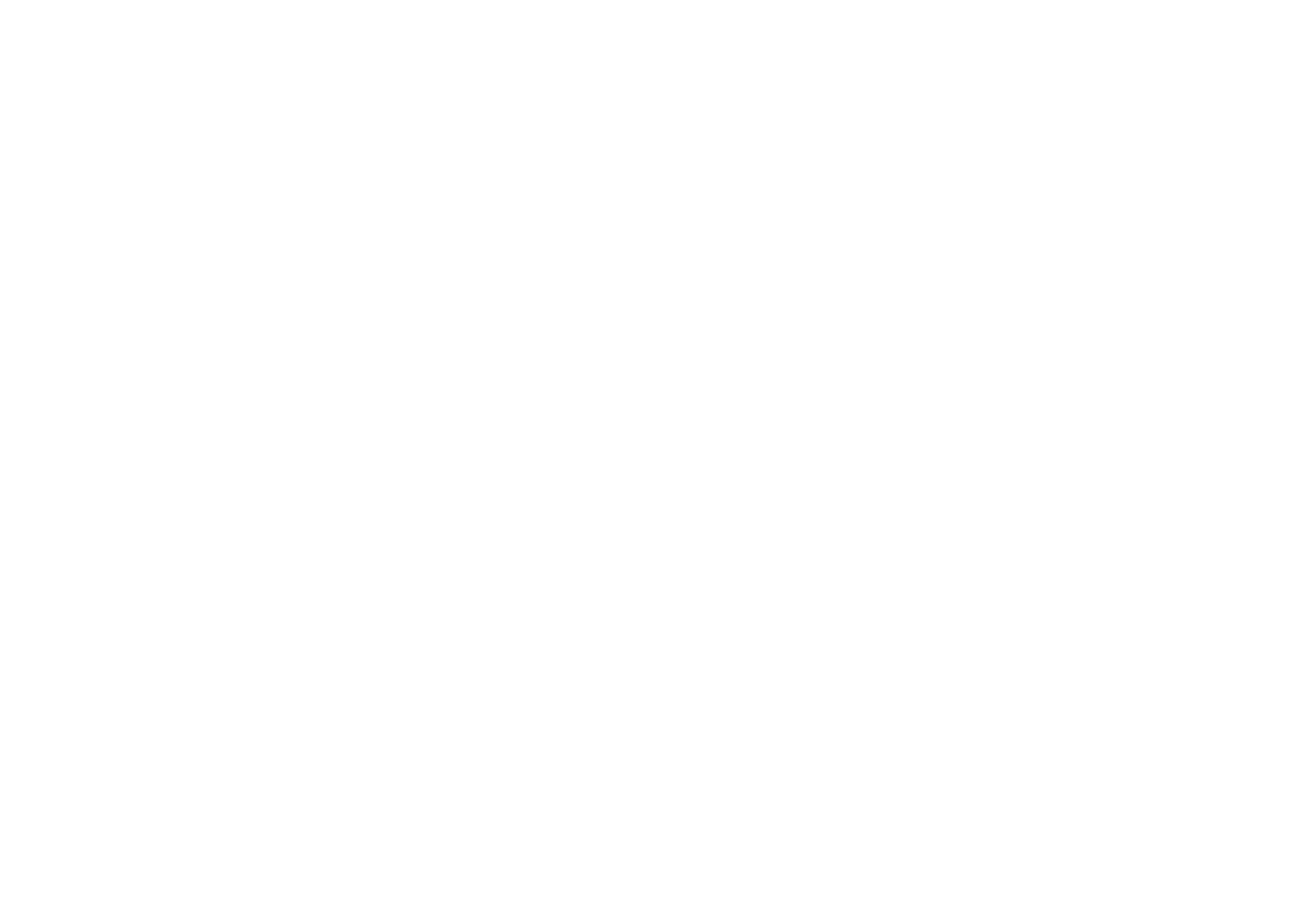
О том, какое большое военное и моральное значение имели боевые действия Аджимушкайского подземного гарнизона в тылу врага, свидетельствуют не только их каждодневные боевые дела, но и некоторые трофейные документы, которые попали в руки советских воинов после разгрома фашистской Германии. Небезынтересно познакомиться с тем, как же оценивали борьбу аджимушкайцев фашисты. Так, в секретном донесении из Симферополя в Берлин, названном «О советских очагах сопротивления в каменоломнях Аджимушкая – Крым», есть такие признания: «Аджимушкайские каменоломни, находившиеся в 3 километрах от окраин Керчи, превращены большевиками в сильно укрепленные узлы сопротивления» Далее: «Ягунов получил приказ командующего Крымским фронтом генерал-лейтенанта Козлова держаться до тех пор, пока не вернется Красная Армия. Этот приказ неукоснительно выполнялся...» Авторы доклада вынуждены признать, что даже в конце октября 1942 года приходилось проводить усиленные карательные экспедиции против остатков мужественных защитников каменоломен.
Они сумели организовать оборону, которую немцы не смогли сломить длительное время. Лишённые возможности пополнять запасы воды и продовольствия, защитники подземного гарнизона сложили здесь свои головы, но нескольким полкам 11-ой армии вермахта под командованием Эриха Манштейна не сдались. Именно тогда фельдмаршал Эрих фон Манштейн получал на левый рукав мундира новенький золотой знак «Крымский щит».
18 мая в Центральные Аджимушкайские каменоломни спустились примерно 15 000 бойцов, командиров Красной армии и мирных жителей. В середине июля их осталось 1 тысяча, к началу сентября – не больше 250 человек.Боевая активность гарнизона резко упала. Резко увеличилась смертность от болезней, истощения. Гарнизон жил впроголодь. По данным немцев, с июля кончился хлеб, к сентябрю дневной рацион включал 150 грамм сахара и 20 грамм похлёбки. «Суп» варили из костей, шкур, копыт лошадей, забитых ещё в мае. Резали и варили кожаные ремни. Мелкие группы выходили из подземелий и пытались собирать траву, коренья, колоски ячменя. Ловили и ели собак, кошек, крыс. Люди умственно и физически слабели, уже не было сил для похорон погибших. Мертвых становилось много больше чем живых. Под конец у похоронных команд уже не было сил от голода что-то делать и тела просто аккуратно складывали друг на друга в отведенных для этого каменных покоях.
В грохоте обвалов, в удушье газовых атак, в ярости жарких схваток с врагом шли дни за днями. Таяли силы подземного гарнизона, уже не сотни, а десятки бойцов могли держать оружие в руках. В середине октября 1942 года из примерно 15 000 человек, спустившихся в каменоломни, после 170 дней боёв в живых остались только 48 защитников, которые продолжали оказывать сопротивление врагу.
18 мая в Центральные Аджимушкайские каменоломни спустились примерно 15 000 бойцов, командиров Красной армии и мирных жителей. В середине июля их осталось 1 тысяча, к началу сентября – не больше 250 человек.Боевая активность гарнизона резко упала. Резко увеличилась смертность от болезней, истощения. Гарнизон жил впроголодь. По данным немцев, с июля кончился хлеб, к сентябрю дневной рацион включал 150 грамм сахара и 20 грамм похлёбки. «Суп» варили из костей, шкур, копыт лошадей, забитых ещё в мае. Резали и варили кожаные ремни. Мелкие группы выходили из подземелий и пытались собирать траву, коренья, колоски ячменя. Ловили и ели собак, кошек, крыс. Люди умственно и физически слабели, уже не было сил для похорон погибших. Мертвых становилось много больше чем живых. Под конец у похоронных команд уже не было сил от голода что-то делать и тела просто аккуратно складывали друг на друга в отведенных для этого каменных покоях.
В грохоте обвалов, в удушье газовых атак, в ярости жарких схваток с врагом шли дни за днями. Таяли силы подземного гарнизона, уже не сотни, а десятки бойцов могли держать оружие в руках. В середине октября 1942 года из примерно 15 000 человек, спустившихся в каменоломни, после 170 дней боёв в живых остались только 48 защитников, которые продолжали оказывать сопротивление врагу.